
Мама с дочкой съездили во Францию. Они сели в самолет и отправились изучать нравы чужой страны так, как это делали раньше в дворянских семьях. Впрочем, какая же она нам чужая, эта belle France? Разве только кому-то еще пока неизвестная. Мама с дочкой съездили во Францию, и впечатления их вылились опять же в неспешное и прелестное повествование о нравах самой заманчивой страны нашего воображения.
Маму зовут ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Дочку НАТАША. Ей пятнадцать лет. Парижане поднимаются рано. В седьмом часу утра стоишь на улице -- бегут на работу, в желудках бултыхается чашечка кофе, а также кусок багетки с джемом, причем багетка особенная, так называемая "пустая", как удостоверение, -- одни корочки; до обеда, до часу дня ни крошки. Хороший обед в кафе -- салат, второе, десерт, -- и опять до вечера разве что чашечка кофе. В семь--девять ужин. Салат, второе, десерт, красное вино и СЫРЫ (впоследствии комментарий; тема СЫРОВ красной нитью шла через все наши исследования Парижа). Полных французов почти нет. Это здесь не принято. Идет по улице толстое, добродушное, грудастое существо в больших шортах, неважно, какого пола и возраста, -- знай: американцы приехали. Коренные парижане летом почти не проявляются, боясь туристов как чумы. Иногда только видишь почтенных милых дам, которые тихо сидят в сквериках, читают. Убежище аборигенов -- кафе. Туда они ходят даже с собаками, и я видела своими глазами, как одной болонке принесли кофе, и она вылакала чашку, сидя за столиком! Хозяйка при этом удерживала собачку, чтобы та в азарте не взгромоздилась прямо на стол. Мода лета Никаких обещанных весенними журналами цветастых довоенных платьев. Если цветок есть, то он мелкий и неяркий. Платья длинные, на бретельках или с коротким рукавом. А так в основном майки. Черные или белые, иногда сразу две, нижняя с рукавом, верхняя на лямочках. Все майки сильно облегающие, но не слишком короткие. Иногда блеснет пуп улиточкой. Тесные черные брюки, внизу иногда расклешенные. Джинсы. Длинные черные или светлые юбки с одним-двумя разрезами. Маникюр неяркий, пяточки и пальчики свежие. Никакого грима. Чистые, незагорелые, как бы свежевымытые лица. Если, правда, это не знойная бухгалтерша с кучей браслетов и грудой колец, бренчащая, как наш трамвайный кондуктор в былые времена сумкой с мелочью. Но тогда к браслетам полагается серебряное веко, удлиненные угольно-синие ресницы, помада Paloma Picasso и треп с подругой по телефону, долгий, как балансовый отчет. Еще о моде. В витрине бутика "Наф-Наф" за картонными листами можно было видеть печальное зрелище: манекенная кукла стояла приспустивши штаны ниже, так сказать, ватерлинии. Около другого манекена ползала на коленях декораторша. Конец летней серии. Мы сидели в скверике на рю Тюрбиго, а на соседней скамейке -- опять парочка, весело болтающая. Она пожилая, со свежей, от парикмахера, прической, у ее ног большая собака в богатой серебристой шубе, вроде полярного волка, но с удивительно доброй мордой. В соседях у дамы обретался лысый, по виду бродяга, расхристанный, восторженный, носков у него не имелось, худая, голая, сизоватая нога прямо из брюк плавно перетекала в не новый башмак. На коленях бродяги возлежало еще одно сокровище -- немолодая собачка, усатая и бородатая. Собеседники эти -- лысый и бабушка -- болтали как заведенные, видимо, о своих питомцах (новый вариант пьесы "Гарольд и Мод"). Я их рисовала, они ничего не замечали. Потом месье пустил свою бородатенькую собачку погулять, и стало видно, что это кормящая мамаша. Она волочила по песку свои вымечки, а хозяин с тревогой и любовью наблюдал за ней (ни один папаша так не будет смотреть на свою взрослую кормящую дочь). Потом хозяйка серебристого полярного волка ушла (бородатая мать проводила волка истерическим криком, когда он по дороге завеялся к ней познакомиться носами), и мы увидели, что волк-то хроменький. Потом я обратила внимание: парижане иногда в жару вообще не носят носков.Тот, кого я приняла за бродягу, вполне мог оказаться преподавателем Сорбонны, который никуда не уехал по причине родов и кормления... И это все, что я могу сказать о парижской моде. Кстати, босоножки от Kookai на распродаже стоили 10 франков, меньше 10 тысяч рублей... Театр Мы хотели попасть в театр -- в тот день, когда весь Париж гулял (День Взятия Бастилии). В "Комеди Франсез" стояла огромная очередь: давали бесплатно для французского народа оперетту "Парижская жизнь". Людей было как в ГУМе за золотом во времена Брежнева. Но что французу здорово (очередь), то русскому неприятные ассоциации. Мы постояли и пошли -- на берег Сены. Вечером идешь по Латинскому, к примеру, кварталу, мимо итальянских, китайских, таиландско-вьетнамских и греческих харчевен -- это все маленькие театры со своими декорациями и звуковым оформлением. У греков в ресторанчике, как мы заметили, по выходным регулярно раздавался Зевесов гром бьющейся посуды, напоминая мелодии семейных скандалов. Но, подойдя ближе, прохожий соображал, что речь идет о свадебном мероприятии. То и дело кто-то из гостей, виляя под звуки сиртаки, празднично выплывал из-за кулис к стойке бармена, покупал тарелку и со скромным удовольствием хвать ею об пол! Груда осколков (дешевых, белого стекла) очерчивала вход в свадебные чертоги, и обреченно стоял бармен, глядя на проходящих мимо и мимо, даже пробегающих трусливо туристов. Туристы Они всюду. В частности, в музеях, где запрещено снимать со вспышкой, если где блеснет молния -- там стоит смущенный, но довольный симпатяга, который быстро оглядывается косым взглядом и спешит дальше, прикарманивши Мону Лизу или Ренуара. Я как-то сидела в зале Ван Гога в музее д'Орсе напротив его автопортрета, терзаясь при каждом огненном уколе. Несчастливое лицо Винсента Ван Гога терпело и эти вспышки, и этот хоровод, то выплывало, то заволакивалось толпой, как небесное светило. Париж летом отдан всем, но каждый завоеватель мечтает быть единственным. Типа "уйдите все, я тут посижу пока". (Вот где мы остались одни с Ван Гогом -- это на кладбище в Понтуазе, там под стеной, в закутке, были две могилы, накрытые густым общим плющом, как детским одеялом: "Здесь покоится Винсент Ван Гог" и "Здесь покоится Тео Ван Гог"... Те, кто были перед нами, оставили свои небогатые дары, кто-то воткнул пластмассовый подсолнух в плющ, кто-то положил под невысокую плиту Ван Гога листочек со стихами... Наташа попросила у меня альбом и краски.) От резкого света музейные сокровища, разумеется, поблекнут, но, может быть, в будущем те же японские туристы найдут новые технические возможности и спасут погибающее, как это уже было сделано кем-то с Сикстинской капеллой. Мы были там лет семь назад, как раз в самый разгар реставрационных работ, когда половина зала еще покоилась в благородном темном серебре под патиной веков, а другая половина уже вопиюще блестела новеньким рыжим и тем голубым, который носят под штанами наши офицеры зимой (сама видела, когда ехала из Питера на пару с каким-то полковником, театр раскошелился мне на СВ, а было натоплено и т. д., и полковник, утолив первую жажду, всю ночь читал вслух поэму Лермонтова "Сашка", повесив форму на распялку; читал наизусть). О, этот голубой цвет! Таковой же можно наблюдать на полотнах арбатских живописцев на тему "светит месяц", которые кратко называются у них "лунки".
Наша жизнь
Мы жили у моей подруги Евы Левинсон, театрального режиссера, одного из лучших театральных режиссеров г. Парижа, на мой просвещенный все-таки взгляд. У нее вечно живут друзья, дети друзей и т. д. На этот раз мы делили квартиру с милой канадской студенткой по имени Милена Есенска (это имя, фамилия другая). Папа Милены Есенски, писатель, страстный поклонник Кафки, назвал свою дочь в честь невесты Кафки, как раз М. Есенски. Святое для кафкианцев имя, примерно как Ильич у латиноамериканских левых (Ильич Рамирес Карлос). Невеста Кафки проходила стажировку в музее д'Орсе и сама напоминала средневековую мадонну. Она охотно согласилась позировать, чего не скажешь о Наташе, которая сидела спокойно, только когда читала роман "Собор Парижской Богоматери", да и то, прочтя, вскочила, обидевшись на Гюго: "Зачем он всех казнил? Это же самый простой способ! Не мог что ли придумать, как спасти? Он пошел легким путем!!!
Сыры
Теперь о сырах. Их не надо есть наспех утром с куском багетки! Их надо смаковать не спеша. После ужина. Когда человек уже наелся и не торопится заглотить кусок. Я, любительница уже исчезнувших московских сортов -- старинного, твердого, полифонического на вкус швейцарского и так называемого зеленого сыра, которым мы питались во времена голодного студенчества наравне с пирожками на машинном масле (сыр был действительно зеленым, как свежее сено, но пах иначе, на три метра вокруг, застарелым морским прибоем, водорослями и рыбацкой просмоленной лодкой, а также степной травкой чабрец и чем-то нехорошим типа старых, слегка подсохших на солнце резиновых сапог), -- так вот, я, патриот швейцарского и зеленого (который надо было есть с обдирным хлебом и с вологодским маслом, запивая сладким чаем, -- ммм), я отправилась в сырную лавочку, фромажери, и попросила продавщицу дать мне самых лучших ее сыров. Она покраснела от удовольствия и стала мне показывать какие-то небольшие круглые штучки, похожие на подгнившие шляпки поганок, а я все кивала и кивала. Вечером мы расположились вокруг сырной доски. Мы пробовали, хлопали глазами, как телевизионный заяц Степашка, ели понемногу, ощущая ломоту в челюстях от набегающей слюны... Эти чернявые куличики, на вид сгнившие до зеленой побежалости, эти плоские дольки, заросшие нежной белой плесенью... Нам вас не забыть. Ностальгия, говорят, -- это тоска по родине. Тоска по родине сыров. Невеста Кафки, кстати, уезжая, оставила нам переходящий приз, студенческую ценность, -- список самых дешевых ресторанчиков Парижа. Помнится, что обед из четырех блюд с десертом в заведении "Два дракона" стоил бы 39 франков, если прийти до 19.30 (мы не проверяли).
Как найти жилье
Исследуя окрестности, путешественник думает и о найме, к примеру, квартиры. Допустим, как в Париже снять номер в отеле? Мне показалось, что я таковой нашла, причем в двух шагах от Евы. Над его дверью так просто и было написано: "Отель". Без названия. Это оказалась лестница. Пианино бы там не прошло. Наш кухонный круглый стол тем более. На этой лестнице вскоре нас оказалось четверо: я, затем вдруг появившийся хозяин, сутулый и какой-то загнанный, плюс какая-то семья из двух человек -- веселая, буквально огневая жена вся в красном, которая как бы подрагивала торсом, вроде бы тайно танцуя, типа спортсмен перед прыжком через яму, и ее муж, пыльный, мрачный, загорелый и озабоченный, в кепке. Это при жаре тридцать градусов. Семья была, правда, без вещей. Но без вещей была и я. Хозяин прошныривал все мимо и мимо. Семья косвенно заглядывала в приготовляемый хозяином номер. Они явно спешили его занять. Я тоже заглянула. Там, в номере, все оказалось выдержано в багровых тонах: широкое пыльное ложе, занавески, обои, и только сверкал белизной маленький унитаз, который почему-то находился у изголовья ложа. Он блистал, как морская раковина, на общем малиновом фоне. "Как в тюремной камере", -- почему-то пронеслось в моей голове. Из мебели, кроме кровати и унитаза, были еще стол и стул на тонких ножках по моде 1950 года. Семья у входа в номер нетерпеливо перетаптывалась. Я им явно была ни к чему. Хозяин на бегу спросил меня, что мне нужно. -- Я с ребенком, -- ответила я. -- Нам номер на двоих. -- На сколько? -- пробежав обратно с помойным ведром, спросил хозяин. -- На три недели. Хозяин даже приостановился. Казалось, он был неприятно поражен таким поворотом событий. Он, сомневаясь, произнес: -- Ночь сто пятьдесят франков! Тут он вставил ведро в номер, кивнул, и семья быстро заселилась, повернув ключ в замке. Я пошла вниз и у выхода прочла объявление, что после 22 часов вечера постояльцы должны называть свое имя! Теперь уже поразилась я. Хозяин опять пробежал мимо, и я успела его спросить, как сюда позвонить и кого спросить. Он ответил, что телефона нет, а он тут всегда. Адрес он тоже дать отказался, ничем это не мотивируя. Я шла обратно и вдруг подумала, что он недаром ко мне приглядывался. Ложе у него в камерах было одно. Как это с ребенком? Что за причуда? И какого он, ребенок, пола? И какого возраста? И не будет ли неприятностей с полицией, как тогда? Разумеется, номер в гостинице города Мурома, беленький, с тюлевой занавеской, с хромым унитазом и ледяной ванной стоил бы на двоих столько же, и за стеной бы там тоже раздавался звон стекла и смех разнополых командированных, но там имелось хотя бы название (ТОО "Русь") и телефон у администраторши, под окном на вольном просторе дымил бы битумный заводик, а дежурная по этажу дала бы по первой же просьбе чайник с чашками, и мы бы сходили на рынок за малосольными огурчиками, молодой картошкой и свежей сметаной, а также за сахарными помидорами, яблоками белый налив и болотной черникой, которая так хороша с сахаром и сметанкой... Боже, и съездили бы в Дубцы и на Оку... Короче, от идеи рекомендовать отель "Отель" пришлось отказаться. Физиологический очерк В то утро мы сидели в Пале-Рояле, я писала розы, Наташа фотографировала. Потом тронулись бродить до вечера, вдали заблестела Сена, и мы пошли на бережок посидеть, ноги гудели. Мы уселись на каменной скамье под стеной набережной, в тени. По Сене плыли взад-вперед кораблики бато-муш, похожие на ломти арбуза, сплошь усеянные косточками. Косточки взирали, видимо, на достопримечательности Парижа, одной из которых была Наташа, которая спала головой у меня на коленях параллельно Сене, а я с изумлением оглядывала окрестности. И даже достала альбом и от нечего делать зарисовала сценку на набережной. Мы попали в какой-то странный мир, будучи в нем единственными существами женского пола. Вокруг, как на лежбище котиков, сидели, пластались, стояли и прогуливались мужчины и представители мужской молодежи. Быстро прошли мимо двое в шортах, я бы сказала декольте, шорты декольте, только это глубокое декольте было вырезано сзади, откуда ноги растут. Эти двое были ужасно оба некрасивые, но они так мило щебетали и хохотали, что даже покраснели оба от смеха, как от натуги. Пробежавшись вдаль, они вернулись и уселись на свои декольте, продолжая заливаться смехом, как какие-нибудь даррелловские дивные попугайчики, для которых смех -- это способ разговора. Да вот и филины переговариваются хохоча! Также они были похожи на двух подружек, которые смеются-заливаются у ворот дискотеки, зыркая по сторонам, чи никто не купит им билета. О, незнание языка! О чем они смеялись хоть? Вдали под огромным платаном сидели очень взрослый пенсионер и скромный юноша. Они недвижно находились в тени, только пенсионер все время менял позу (левая нога на ногу, правая туда же, обе вместе скрещены, обе врозь, поза "Мыслителя" Родена, подбородок на кулачок, затем узор повторить: левая нога на ногу и т. д.). Он очень мешал мне рисовать его, как будто бы заметил, что дело нечисто, хотя я сидела далеко, и он даже на всякий случай накинул черные очки -- что ж, я тоже накинула ему черные очки. Лицо его, спасибо, оставалось неподвижным. А за тем же деревом, отвернувшись к Сене, сидел юноша в элегическом виде с книгой на коленях, ни дать ни взять тургеневская героиня, и я сначала не заметила его крошечную собачку, но потом заметила, и она присутствует на рисунке двумя ушками. Тургеневско-чеховская дама с собачкой. Один пробегающий юноша поразил меня своими шортами: у всех тут они были сильно декольтированы, у многих еще и дыроватые, но у этого прореха сверкала ровно по центру много ниже пояса. И оттуда вылезла белая тряпочка, как хвостик у детсадовского зайчика на новогодней елке. При ходьбе эта тряпочка виляла с амплитудой семь-восемь сантиметров, сильно вихлялась, короче. Скамейки проводили его недолгими взорами, как оседлые, стационарные торговцы из ларьков проводили бы глазами пешего разносчика. Наташа к тому времени проснулась и увидела прореху, о чем впоследствии сочинила песню. У нас как: если собралось трое мужиков, то тут же толковище, роются в карманах, потом появляется емкость, потом все засосали напиток, занюхали конфетой "Мечта", потом на выбор либо машут кулаками у соседских челюстей, либо лезут обниматься и втирают в глаз слезу. А тут, к примеру, сидят трое похожие, как братья, около каждого бутылочка минералки. И молчат. У всех троих этих невысоких богатырей маленькие загорелые лысины, унылые глазки и усы как у Руцкого. Сначала я подумала, что эти печальные три брата только что потеряли кого-то и завернули сюда с похорон. К примеру, обсудить проблему, что делать с наследством. Но обычно такой дележ происходит не так, знаем по фильмам ужасов. Эта же троица буквально плавала в печальной неподвижности, только один раз один брат встал, отнес свою бутылочку минералки к реке и вылил остатки воды в Сену, а потом вернулся обратно и снова сел грустить. Потом быстро прошел человек, весело крича: "Слишком дорого, слишком дорого!" Окрестности сделали большие глаза и переглянулись, в том числе это сделали три брата. Легкое самодовольство мелькнуло на их усатых руцковских лицах, но потом печаль вернулась. Какая-то голодная это была печаль... У нас тоже, бывалоча, едешь вдоль Садового кольца поздно на такси, и тоже печальные очи стоящих шеренгами девушек провожают твой транспорт, навевая мысли на тему "И зачем ты бежишь торопливо за промчавшейся тройкой вослед..."
Воспитание детей
Ева привезла нас к себе на дачу в Нормандию. Туда же приехали гости -- молодой парижанин Норбер с двумя детьми, а также семья парижского ливанца-христианина, состоящая из его бейрутских родителей, полуторамесячного младенца, бразильской жены, а также бразильских мамы жены и сестры жены. Мы сразу подружились -- оказывается, язык жестов самый простой язык. С его помощью мы узнали, что детей у ливанских стариков было шестнадцать, в живых десятеро, что старая мама Роза буквально слепнет от тяжелого диабета, вся надежда на лазер, что старенькому папе спасли буквально жизнь в Париже, оперировали его, что сын -- самый лучший сын на свете и внук тоже. Вот эта система восхваления детей дает, очевидно, свои плоды, потому что парижский сын обращался с родителями как с божествами. Вся семья приехала поклониться христианской святыне Мон-Сен-Мишель; и восьмидесятилетний папа, и мама под семьдесят, и молодая красавица жена с шестинедельным младенчиком, и гордые испанки теща и сестра жены -- все они выехали из Парижа в пять утра, в полдень оказались у подножия скалы и пошли вверх на 77 метров, по лестницам, вырубленным в скале. Вернулись они уже на закате, и старая ливанка несла младенчика -- спокойно, гордо, ласково. Дитя не пищало совсем, как будто чувствовало исходящий от нее покой. Утром я попросила разрешения нарисовать бабушку, а потом ко мне поднялся и дед и тоже разрешил себя написать... Затем он сказал мне на языке жестов, что ему понравилось, и отобрал у меня оба портрета. На память остались только наброски. Что же касается Норбера, то он оказался писателем, издающим книги за собственный счет. Что делать! В семье работает жена, а Норбер -- мапа, мапочка. У него в доме нет телевизора, дети окружены книгами, Габриэль в свои шесть лет настоящая книжная пиявка: если она воткнулась в книгу, ее не оттащить. Луи тоже тянется рассматривать книги, ему четыре годика. К восьми вечера дети у Норбера вышли из ванной, поужинали и отправились в кровать. Там они с часок возятся с книгами и игрушками, потом зовут отца, он гасит им свет. Габриэль после такого домашнего воспитания пришла в школу поступать в тринадцатый класс, но на третий же день директор вызвала Норбера и сказала ему: -- Ваша дочь все время поправляет учительницу и учеников. Ей нечего там делать. Мы переводим ее в следующий класс. И ее посадили в двенадцатый. Норбер признался мне, что в этом классе у Габриэль некоторые проблемы: дети не читали ее книжек, а Габриэль не смотрела их мультиков. Нет общих тем для разговора. Так же как мамам не о чем говорить с Норбером. Они его стесняются. А одна не стесняется и доверительно рассказала Норберу, как рожала. Дети у мапочки едят точно по часам, четырежды в день, сытно, обильно и разнообразно. Норбер прекрасно готовит. Скажем, купили овощей: цветную капусту, кабачки, сельдерей. Как дети будут это есть? Норбер положил хлеб в тостер, сварил овощи и тут же взбил их миксером, затем добавил молока, и на тебе -- протертый суп с гренками. На полдник дети едят фрукты. На ужин они ели мелких, по виду садовых, улиток, выковыривая их отточенной спичкой. Дело шло туго, и мы все начали помогать, вытаскивали улиток, а дети просто держали рты тюльпанчиком, широко разинув, и ели вдвоем с трех наших спичек. Норбер, кстати, кормил Габриэль и Луи отдельно, не ожидая никого, -- так в старых барских семьях детей не сажали за взрослый стол. На август Норбер с женой и ребятами плюс еще четырнадцать взрослых и детей арендовали замок на берегу океана в Нормандии. Норбер рассказал, что они будут вести общее хозяйство и вместе отдыхать, а сам он подрядился там быть поваром. Видимо, за это они будут жить в замке бесплатно. Норбер, красивый, умный и к тому же талантливый педагог, зарабатывает как может, но не всегда получается...
Простая провинциальная жизнь
Это, к примеру, городок Гавре в Нормандии, куда нас в свой дом привезла Ева. Размером с небольшое наше село, Гавре не имеет ни автобусной, ни железнодорожной связи с миром. Глухомань. Правда, у всех есть машины, а дома двух-трехэтажные, из дикого камня. Идеальная чистота, цветы. На главной улице мэрия, почта, дорогие магазинчики (в обувном сандалии от доктора Мартенса за сто долларов). Гавре процветает за счет того, что там проводятся по субботам ярмарки телят и свиней. Телят продают в возрасте недели, они ростом с большую собаку, в ухе цыганская серьга с номером. Глаза глупые. На главной улице антикварный магазин Анник. Анник, добрая, милая женщина, лихо ездит по хозяйственным нуждам на своем двухместном "мерседесе" (задние сиденья убраны). За товаром Анник часто заглядывает в соседнюю Англию (за Ла-Маншем сразу налево). Жизнь у Анник нелегкая. Недавно ее бывший муж посватался к молодой. Ему отказали. Он убил несостоявшуюся тещу и невесту, затем покончил с собой. Еще одну душу он едва не погубил -- собственную дочь. Девушка мучается депрессиями. Анник то и дело ездит к ней в Бельгию, где та учится в медицинском. Но Анник не жалуется, всегда бодрая, отзывчивая. У нее живет бродячий художник Ален, бесшабашный игрок и выпивоха. Она укрощает Алена, он сидит рисует прямо в магазинчике, а Анник продает все его полотна. Пока мы жили в Гавре, Анник продала тридцать работ Алена! Я рисую Алена, говорю: -- Ален Делон! -- Ну! -- подтверждает он. -- Я снимался с ним в кино, "Цыган" называется. Они пришли, я рисовал на набережной. Можете, спрашивают, отойти на десять метров? Я: отходите вы. Хорошо. Тогда предлагают: будете у нас сниматься за три тысячи франков в день старыми, с условием никуда не уходить с этого места? Могу, говорю. Два дня меня снимали, Делон проезжал мимо на машине. Вышел фильм, меня нет. Второй раз посмотрел -- нет. Пошел, купил видак, купил кассету, остановил, смотрю: вот он я! У Алена было свое кафе, он его проиграл. Получил в лотерею десять миллионов (старыми) -- продул. Теперь держится за Анник. Анник -- добрей не бывает. Ее сразу заметно. Такие существа выводятся в мире редко и видны насквозь. Что не мешает ей свирепо экономить. В частности, она никогда не поедет по главному шоссе, где надо платить, -- всегда как бы огородами. Хотя теряет во времени. Но что время? Что время здесь, в Гавре? Солнце, океан вдали, тучные пастбища, леса, прозрачная река в каменных берегах, на мосту растут цветы прямо на перилах... Главная ценность этих мест -- музеи. В соседнем селении музей стекла (начиная с античных чаш, венецианская посуда XVI века, какие-то орлеанские чудеса, молочное стекло с эмалью 1710 года, вереницы витрин -- чистый Эрмитаж), и в том же замке XI века, вход со двора, -- огромный музей вертепов, рождественских театров XVII-XVIII веков, набитый сокровищами. Причем считается, что первый вертеп сделал Франциск Ассизский, испросив разрешения Папы. Театральные коробки то с почтовую открытку, то величиной с комнату. В каждом таком вертепе -- фигуры святых, Марии, младенца, животных, царя Ирода, волхвов -- размером от спички до полного человеческого роста. Эти креши (так они называются здесь) сияют роскошью, как пещера Али-бабы. Собирал вертепы старый граф, который умер, оставив музей преданному молодому другу. Друг этот, теперь уже престарелый, не держит никакой прислуги, лично метет, вытирает пыль, выращивает полгектара роз в саду замка, принимает посетителей. Выручка за билеты самая малая, мы были единственными посетителями за целый час. Но теперешний владелец ничего не продает. Хранит так, как завещано. Вид у него при этом достойный, хотя и встревоженный как при приходе, так и при уходе публики. У нас тоже вид был сильно помятый, видимо, как у сорока разбойников, которые, сказавши "Сезам, откройся!" перед сокровищницей, поняли, что емкостей унести все это не хватит, что-то придется и забыть... Это вот ощущение -- переполненности, остолбенения -- сопровождало нас и в Мон-Сен-Мишеле. Это местное чудо, оно так и называется -- "Чудо Запада", монастырь на скале среди океана. Ева повезла нас туда на ночной сеанс, с одиннадцати до половины первого ночи. Ехали со свистом по темному шоссе, мелькали фосфоресцирующие указатели, кусты, черные деревья, и вдруг в просвете что-то сверкнуло вдали как бы пунктиром, в океане. Рой звездочек на горизонте. -- Вуаля, -- сказала Ева. -- Вот. Мон-Сен-Мишель. Мы проехали по дамбе среди мокрого песка и уткнулись в богатырские стены. Это были типичные декорации сказочного замка, камни, могучие башни, знамена, антикварные лавки, путь в небо. Карабкались вверх, вверх, вверх, впереди и сзади тоже карабкались люди. Наверху нас ожидали пустынные залы, огни и хоровое пение из динамиков (программа "Звук и свет", начинается в 23 часа). Наташа на другой день сказала: вот бы оказаться там ночью одной, но чтобы свет и музыка остались. Если честно, то захотелось оказаться в Мон-Сен-Мишеле с толпой пилигримов, идущей днем и ночью при факелах сотни лье беспрерывно по дорогам средневековой Франции. Не думая о воде и еде, с молитвой на устах, во тьме, в глухой ночи вдруг на повороте увидеть вдали, в море, под светом луны этот ребристый граненый камушек, посверкивающий тысячью лучей, крошечную светящуюся крепость, где дадут переночевать и поесть, где простят грехи... Как пилигримы, должно быть, вопили от восторга! Как эта ползущая по лесной дороге тысячеголовая гидра с факелами, эта светящаяся гусеница вздрагивала хребтом, воздымала огненную дымящуюся щетину и орала: "Мон жуа!", что звучит и как "Гора счастья", и как "Моя радость".
Жажда идти в колонне...
Монахи Мон-Сен-Мишеля, счастливцы, жили на своем скальном островке собственной жизнью: они ставили спектакли, писали стихи и поэмы, песни, переписывали книги, пели хором, молились денно и нощно, строили, варили и пекли, стирали, убирали, таскали воду, размышляли под звездами, ходя мытыми ногами по мытым каменным плитам верхней галереи. Но кроме этого они должны были принять массу пилигримов -- а это вонь, грязь, хвори, бесноватые, голодные и блаженненькие лица, истлевающая обувь, лохмотья, черные рты, тянущиеся к воде, умершие, рожденные, околевающие инвалиды, плачущие от радости, всех надо накормить, разместить, поднять на рассвете на молитву, потом их выпроводить (идут новые и новые), не говоря уже о том, как защитить монастырь от бандитов, чужеземных солдат, как бороться с пожарами, мелкими воришками, с шайками нищих, с эпидемиями -- и как принимать важных гостей, от которых зависел монастырь... Кроме того, Мон-Сен-Мишель был государственной тюрьмой, здесь пожизненно в каменных норах содержались без суда и следствия столь же важные гости. А детские паломничества, когда нестройными рядами брели по Франции маленькие христиане от семи до пятнадцати лет, и, завидев эту колонну мурашей, другие дети бежали к ним спасать свои души, бросая родителей и родные дома! Только представить себе этих упорных, дрожащих от холода добровольных сирот, малолетних юродивых, которым не было обратной дороги, -- к монастырю их вела горячая детская вера, а обратно у каждого был свой путь, пешком, без еды и даже иногда и без адреса... Мы спускались из Мон-Сен-Мишеля последними, во втором часу ночи, луна мелькала в стрельчатых окнах, за нами уже шли слишком веселые молодые сторожа, покуривая, побрякивая ключами, и вдруг они исчезли, мы брели одни по кривым, уходящим вниз улочкам спящего городка, над крышами, потом над треугольником маленького кладбища, где ветер трепал цветы оголтело, как пес... Луна, океан, ветер хлещет по лицу, скалы, монастырь, довольная Ева: это ее сокровище, Мон-Сен-Мишель.
Из дневника Наташи
Я вхожу в Нотр-Дам-де-Пари. Время от времени вспышки туристов. Когда мы были в Сен-Мишеле, я подумала, что если бы я там была одна, то все было бы гораздо таинственнее и было бы гораздо более глубокое впечатление от этого "Чуда Запада" (Merveille de l`Occident). И вот я в одном из древнейших парижских соборов, и все портят эти вездесущие японцы со своими фотокамерами. Я решила по методу Станиславского отгородиться от окружающего и посмотреть Нотр-Дам в вакууме. Но ничего не получилось. Тогда я подошла к тамошнему стражу порядка и спросила, можно ли где-нибудь подняться на знаменитую башню (где Квазимодо бил в свои колокола). Он показал, куда идти, но заметил, что, наверное, вход уже закрыт. Я как оглашенная помчалась туда, ведь как же, это же было моей мечтой! Читать в Париже "Собор Парижской Богоматери" и не сходить на место происшествия! И вот я, точно решившая пройти сквозь все препятствия, лишь бы подняться наверх, прибегаю в указанное полицейским место, и вот что предстает перед глазами: около входа, которого в общем-то не видно, стоит очередь, прямо как за сосисками в былые времена в Москве! И я подумала: последний день в Париже -- можно и в очереди постоять. Передо мной стоял американец, на шее -- фотоаппарат Nikon с огромным объективом, не то что у моего "Зенита"! Стою в очереди, подходит молодой человек с рацией и говорит: "Извините, вы говорите по-французски?" Мы ответили, что да. Тогда он попросил, чтобы после нас никто не вставал. Это оказалась трудная и неприятная обязанность. Время от времени приходилось объяснять ситуацию испанцам и японцам на языке жестов. Они не говорили ни по-английски, ни по-французски, а из нашей очереди испанский знал только рыжий американец, который стоял впереди всех. Дошла моя очередь, я купила 20-франковый билет и пошла. Я была последней в очереди и представила себе, что я здесь одна, одна в башне древнего собора! Вытесанная из камня винтовая лестница. Идешь, а она все не кончается и не кончается, даже нет ни одного пролета, будто волшебная лестница вечности... Только иногда встретится узкое окошечко наружу, и ты смотришь, на сколько уже поднялся. И вдруг свет в конце тоннеля -- выход, низкая деревянная дверка. Я вышла на площадку из белого камня, которую обрамляла балюстрада с прославленными нотр-дамовскими монстрами. Я никогда не ожидала, что они будут такими! Один стоит на балконе, подперев рукой свою уродливую головку с рогами, да еще и с гребешком, причем за спиной крылья, и смотрит с высоты птичьего полета на город, за которым уже семь столетий вот так наблюдает... Другой, а именно сирена, сидит и поет. Третий (человеческое тело с непонятно чьей головой) стоит, взявшись руками за перила, с высунутым языком и смотрит вниз. А еще один, как и следовало ожидать, -- химера, грызет что-то вроде птицы с длинной шеей. Все они совершенно разные, но их объединяет то, что они костлявые, с выпученными глазами и горбатые. Сколько они видели на своем длинном веку: все восстания, казни, революции, праздники, кто знает, может, и того самого Квазимодо... Дальше моя любознательность привела меня к низкой деревянной дверке. Я поднялась по еще более крутой лестнице, она была еще уже, но, слава богу, короче (по той я поднялась на 270 ступеней!). Вошла в какую-то деревянную башню, прямо перед собой вижу огромный колокол, размером с большой шкаф. Он висел, но если бы я даже вложила все свои силы, то ни за что бы не сдвинула этот колокол! Язык этого "бубенчика" был толщиной с мои бедра. Тут мне живо представилась картина: вот горбун висит на этом колоколе и всеми своими силами раскачивает его -- я увидела его восторженное лицо, горящий глаз... Потом я вернулась к чудищам и услышала женский голос, говорящий на чистом русском языке: -- Слышь, ма, там можно пойти наверх, а то че мы, как дураки, пойдем сразу вниз. И послышался мощный стук каблуков (все русские женщины за границей надевают самое лучшее, поскольку чувствуют себя в гостях, а хозяева, обыкновенные французы, одеваются очень просто: кеды, брюки и майка). И я увидела девушку лет шестнадцати в коротком облегающем сиреневом платье и такого же цвета босоножках на огромных "кэблах", а за ней женщина, тоже при параде, постарше ее. Я скользнула вверх, там была еще лестница. Я вышла на площадку. Это оказалась самая верхняя точка собора -- кстати, спрыгнуть или упасть с этой колокольни невозможно, все огорожено сверхпрочной проволокой. Я пошла вокруг и подняла голову, чтобы полюбоваться небом, и вдруг увидела сидящего прямо надо мной черного ворона, который совершенно спокойно наблюдал за моими действиями. Вот те раз! Ворон на такой высоте. Я стала его фотографировать. А он, представьте, ПОЗИРУЕТ! То посмотрит задумчиво вверх, то прямо в объектив, то куда-то совершенно мимо меня! Он, наверно, уже привык, что его снимают, туристы ведь без фотоаппарата не ходят. Стал местной достопримечательностью. Ну, я поудивлялась-поудивлялась, пошла дальше вокруг, возвращаюсь, а он там сидит и кормится из рук какой-то японки! Сняв несколько кадров, я нахожу тоже какие-то крошки и, дождавшись, пока уйдут мама с дочкой, последние за этот день посетители, остаюсь одна, подхожу к ворону и сую ему эти крошки. Он с отвращением отворачивается и перелетает на другое место. Я за ним. И опять, только раскрошив их помельче, даю ему поклевать. Он, прихрамывая на правую лапку, приближается к моей протянутой руке и, как бы только ради съемки, начинает клевать крошки, раздвигает мои пальцы клювом, как щипцами, и выклевывает мельчайшие частички сухаря. Потом, видимо насытившись, он снял свою шершавую лапку с моей трепещущей руки и опять отодвинулся. Я снова протянула к нему руку, но уже другой стороной, где было мое любимое колечко с бирюзой и крохотным кораллом. Он залез на мою руку и с полным равнодушием ткнул клювом в колечко. Тут-то я разглядела его особенность: у него были совершенно голубые глаза!!! Затем, немного поразмыслив, он легонько еще раз клюнул и проглотил мой коралл! Ну вот и настало время прощаться, мусье ле Корбо. Очень приятно было познакомиться. Служащий твоего приюта уже гонит к выходу. Теперь я буду смотреть на кольцо и вспоминать, как ты жадно проглотил коралл. Ради тебя я прошагала 310 ступенек вверх и столько же вниз. Au revoir! До следующего свиданья!
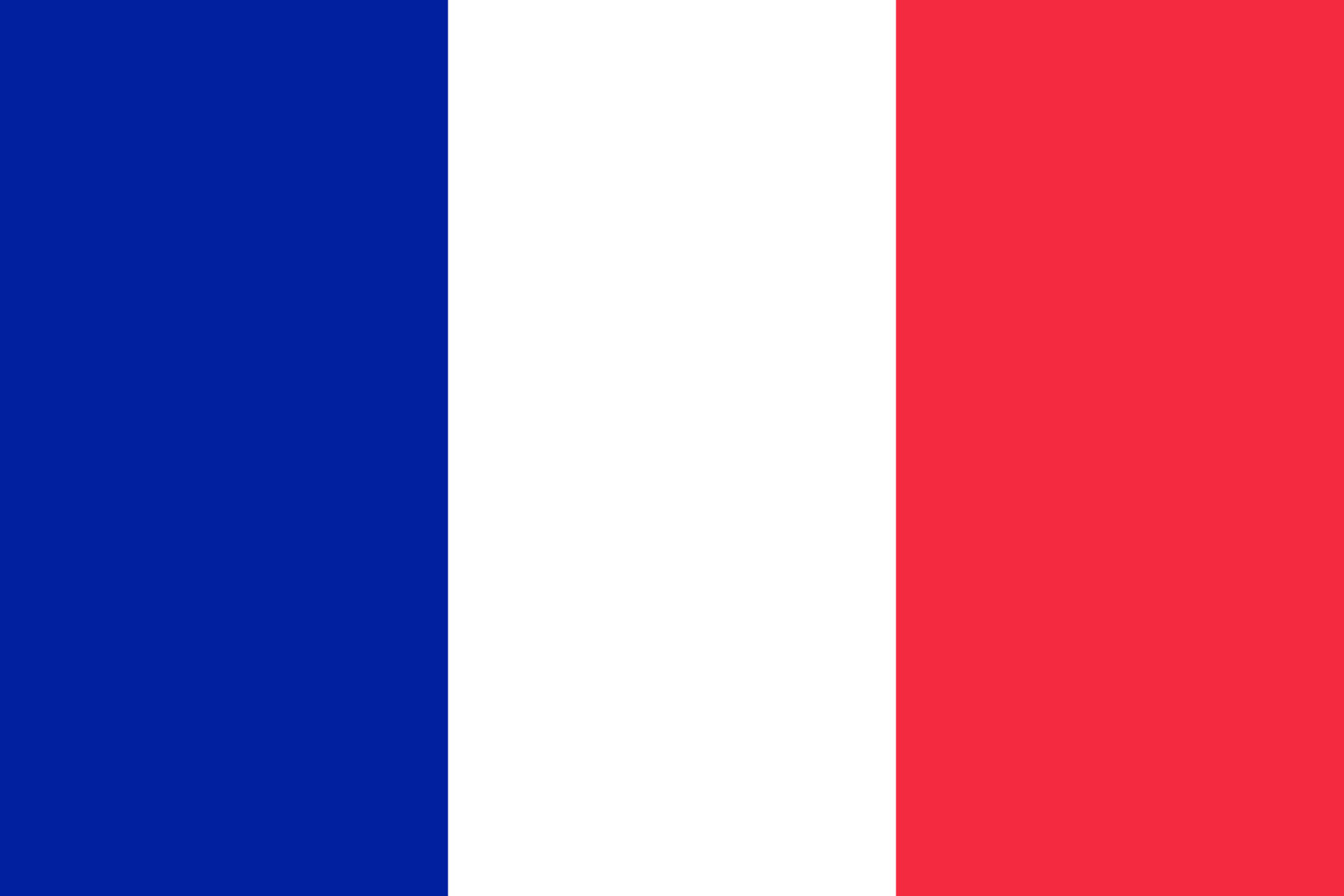
Нет комментариев